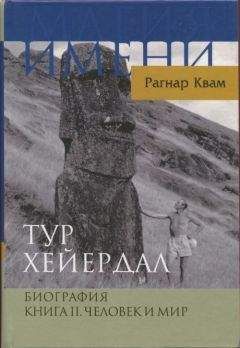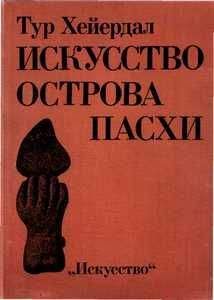И следом другой фильм: хлюпинцы выносят из разгромленного музея скелет парейазавра. Стаскивают по лестнице ящик со стеклянной крышкой — как гроб.А в разговоре всплывает сюжет покруче.
Многих из грабителей с, так сказать, «палеонтологическим уклоном» Альберт знает в лицо — встречал в коридорах МГУ, когда слушал там курс, а потом в Палеонтологическом институте, где стажировался. И нестрого их судит — надо же людям существовать. Только помнит до сих пор ту изощренную, сладостную жестокость, с какой они измолотили «Старика» — самого крупного из найденных парейазавров.
Была погоня за ГАЗ-66: Алик выехал с природоохраной на «бобике». Грузовик остановили, перегородив дорогу своей машиной. Взяли семь человек — и отпустили. Предупредили. Не наказать никак. И вместо лучшего за все времена, вместо 2,5-метрового, видимо, очень старого животного, а может, даже и другого вида, — вместо скелета, который нашли и, подготовив трехтонный монолит, только ждали крана, чтобы вывезти, хлюпинцам остались жалкие осколки. Счастье еще, что успели взять череп с конечностями. А «черные» палеонтологи продолжили свой маршрут на просторах родины.
Перенесемся на миг в столицу — на Крымском валу, на ВДНХ, в Измайлово есть необычные «барахолки», где на столиках разложены не куртки с кроссовками, а окаменелости, и торгуют палеонтологической всякой всячиной: купить можно все, даже мороженные куски мяса мамонта. Торговля, понятно, идет по мелочам: трилобит, аммонит — это 5-10 баксов, и крупные люди там не светятся, крупные люди торгуют партиями в тысячи, десятки тысяч трилобитов и аммонитов, которые оборачиваются долларами где-нибудь в Мюнхене. Но столько же, даже больше, принесет всего один скелет крупного позвоночного. Например, парейазавра.
— Обнаруживаем однажды, — вспоминает Алик, — что на обрывах кто-то шарит киркой в шахматном порядке, словно геологи ищут рудное тело. Я пошел с собакой и наткнулся на троих: жрут кашу, а рядом в земле — скелет парейазавра. Они начали копать, оконтурили и ломали голову, как тиснуть такую махину; стали уже пропитывать негодной пропиткой. «Чем занимаетесь?» — спрашиваю. — «Отдыхаем». А рядом кирки, инструмент американский. «Так это не ваше? Могу забрать?» Выдавливают из себя: «Копаем».
— Я предложил убраться. Они откликнулись вяло. Тогда вызвал по рации катер речной милиции. И признались старатели, что на троих, на две недели, получили 10 «лимонов». Это в 94-м то году! «Может, нам штраф заплатить?» — предлагают. Я, шутки ради, брякнул: «Пять миллионов». Они, нехотя: «Ладно». Ничего с них, конечно, не взяли, кроме подписки, что больше так не будут, и посадили на поезд.
— А потом оказывается, — продолжает Алик, — что в том же году кто-то крепко пошарил на севере области и на Малой Двине. А в Москве на одном из рынков появилась красная порода с останками пермских рептилий, по характеру окаменелостей очень похожими на котельничские. И тогда же всплывает скелет парейазавра на лондонском аукционе. Обвиняют сразу нас, но выясняется, что мы ни при чем: его вывезли по поддельным документам, через десятые руки, а мы находим только следы работ в устье реки Моломы — там даже была замечена целая бригада за большой раскопкой. Я видел фотографию этого парейазавра — перед торгами его выставляли в витрине какого-то лондонского универмага, и он, точно, из Котельнича. Начальная цена была 60 тысяч фунтов.
С неохотой рассказывает об этом Алик. Сейчас упорядочен вывоз окаменелостей. Есть закон о недрах. Западные музеи, аукционы предупреждены. Издаются каталоги краденных ископаемых.
Но, увы, и дальше рассказ бежит по тем же рельсам. В 95-м хлюпинцы наткнулись на питерских студентов, которые, несолоно хлебавши в Котельниче, перебрались на Мезень и уволокли лучшие материалы у российско-канадской экспедиции. И в 96-м тоже кто-то прошел ямками-закапушками — через каждые три шага в шахматном порядке — восемнадцать километров котельничских обрывов...
Позади остался котельничский мост, электричка покатила по дамбе над невысокой пойменной порослью, накрытой первым снегом. Пустынен некогда оживленный Транссиб, хмарь за окном и стыло в вагоне. Мы едем с Альбертом в город Киров смотреть выставку экспонатов из Котельнича, расположившуюся в залах областного музея.
— Так каково же главное сокровище вятских обрывов? — спрашиваю. — Парейазавры?
— Не совсем, хотя ценность их вы уже представляете. Вот суминия — редко бывает, чтобы находка, еще до сообщения о ней, путешествовала по миру. Знали: есть такая, встречали разрозненные фрагменты, но полностью смогли представить животное только теперь. А ведь здесь погребено целое сообщество видов, другое подобное есть только в Южной Африке, на плато Карру. но сохранности много худшей. Наши раскопки вообще меняют представления о пермском периоде: обнаружены виды-предки и виды-потомки, — оказывается, они сосуществовали. А главное сокровище — это терацефалы, звероголовые ящеры вроде горгонопса, переходные формы от рептилий к млекопитающим. Можно сказать, недостающее звено. Да, я уверен, — сдержанно добавляет Алик, — в ящиках, на которых мы спим, нас ждут сенсационные находки. Пять препараторов мне нужно, чтобы работали круглый год. Лучше — и днем и ночью.
Так настигает нас подлая проза жизни.
— Что же стало с музеем после того, как вас выжили из ваших трех залов?
— Мы окопались с экспонатами в подвале пятиэтажки, где обитали еще и крысы. Держались до затопления. Сейчас сельская районная власть выделяет нам часть бывшего кинотеатра, будем делать экспозицию там. Район же станет платить нам зарплату.
Значит, надменный город отторг чужаков, а простецкая деревня приняла. Посчитала ископаемые своими. Поняла лучше, оказалась дальновиднее. И слава Богу.
— Алик, палеонтологи бывают верующие?
— Кто как. Один мой знакомый утверждает, что эволюция и есть величайшее, неопровержимое доказательство существования Творца — настолько в ней все избирательно и мудро. Причем, знаете, до сих пор не находят переходных форм между видами, и это, видимо, неслучайно: изменения происходят скачком, всего за несколько поколений. И мутации не есть основа эволюции — роль их однозначно отрицательна.
— Так что же — существует промысел Божий?
Он пожимает плечами.
И мы беседуем еще о прихотях эволюции, которая за 20 миллионов лет, сколько длилась история парейазавров, подрастила этих ящеров до 4 метров — таких находят на Двине, а разрозненные верхнекамские позвонки свидетельствуют о том, что встречались особи и вдвое крупнее! Говорим о странной рогатой рептилии пробурнетии. О том, что, судя по отпечаткам, зверозубые-териодонты имели волосяной покров и, значит, теплую кровь, а, судя по костям таза, детенышей вынашивали в утробе и, наверное, потом как-то о них заботились — мозг их — самый крупный из всех пермских животных. Я узнаю, что терацефалы, видимо, питались суминиями, — находят часто останки рядом, а в окаменелом помете одних находят кости и зубы других. Что австралийский аспирант увез отсюда образцы пород, изучил, и оказалось, не совсем окаменела древняя кость, добрая половина в ней — органика и, значит, в принципе, возможно выделить ДНК. вырастить парк пермского периода!
На маленькую выставку в Кирове экскурсии валят валом, сотрудницы с воодушевлением рассказывают про скелеты, двигаясь от полки к полке, от шкафа к шкафу, как их обучил Альберт. А когда он сам забегает помочь мне со съемкой, то отлавливают его и представляют детям как самый драгоценный экспонат. Ребятня не теряется, спрашивает, динозавры — это всегда занятно, два месяца была в Кирове выставка, уехала, и попросили привезти снова.
Вот воздали и у нас Алику по заслугам. Как в Австралии, где он только что гостил у известнейших профессоров, как в Америке, чье Национальное географическое общество готово поддержать его раскопки. Упрямится только Котельнич, город, которому он подарил музей. Но разве подарил для того лишь, чтобы продолжить свое увлечение и хранить находки? Привозил бы он тогда, выменивал повсюду всевозможные окаменелости — и двинские, и азиатские? Привез бы огромный слепок тираннозавра, по имени Кеша, которого смонтировал так, что раньше западных ученых совершил научное открытие — не волочил ящер хвост по земле, как на всех прежних рисунках, а носил, как балансир, и бегал на задних лапах!
— Как же я могу рассказать об истории планеты только по нескольким фрагментам? — вопрошает он на обратном пути в электричке. — Музей — это прежде всего наука, но это еще и популяризация. В музее человек познает мир и осознает свое место в нем.
Еще ночь, я ложусь третьим с краю на ящики с неоткрытыми сенсациями, размышляя, что это, наверное, и моя жизненная удача, хотя и не такая значительная, как их открытие. А назавтра прощаюсь с ребятами на том же скользком перроне, далеко от старого вокзальчика, перед сваями некогда заложенного нового.